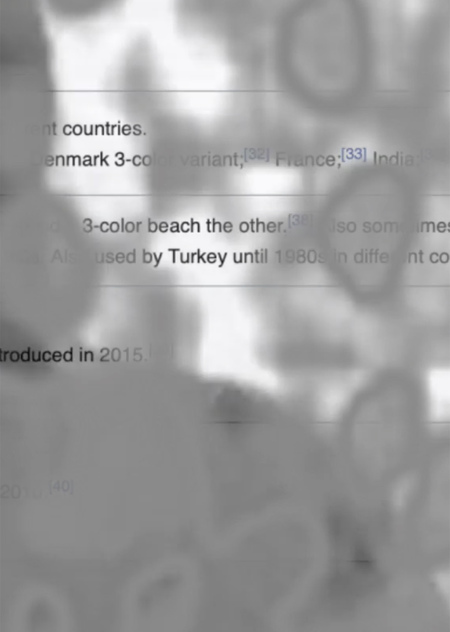
Цифровое изображение: новые режимы визуального
Курс «Философия современного искусства и анализ арт-систем»
Цифровое изображение — совокупный итог технического прогресса и радикальных художественных процессов ХХ века, трансформировавших пространство культуры. В 1934 году Поль Валери писал: «Ни вещество, ни пространство, ни время в последние двадцать лет не остались тем, чем они были всегда. Нужно быть готовым к тому, что столь значительные новшества преобразят всю технику искусств, оказывая тем самым влияние на сам процесс творчества и, возможно, даже изменят чудесным образом само понятие искусства» [цит. по Беньямин 2013, с. 60]. Радикальным как в художественном процессе, так и в традиционной природе искусства стали возможности технической репродукции.
Происходивший на протяжении всего XX веке процесс освобождения образа вслед за художником и исследователем Питером Вайбелем можно разделить на две фазы. В первой половине века с этим работали представители футуризма, кубизма, супрематизма, дадаизма, сюрреализма, во второй — концептуального искусства, Флюксуса, акционизма, перформанса, arte povera и пр. Цветовые поля абстракционистов, машинная иконография в дадаизме, трансформации и синтетические образы в сюрреализме, включение зрителей в хэппенинге — все это является последовательными этапами этого процесса. «Цифровое изображение — это, кроме прочего, коллаж, развернутый во времени и на несколько пространственных слоев, который, будучи подобным музыке, покидает двухмерную поверхность ради четвертого измерения» [Вайбель 2011, с. 36].
С начала XXI века цифровое изображение все активнее включается в сложные социальные, экономические и политические процессы; меняются режимы его функционирования.

Немецкий художник и режиссер Харун Фароки (Harun Farocki; 1944–2014) в своих работах обращается к образам в современной культуре прежде всего как к средствам выражения идеологии и инструменту политического влияния. Камера как источник власти становится центральной темой его видеоэссеистики. Записи камер наблюдения, аэрофотосъемка, компьютерные игры, программы распознавания образов становятся метафорами в документальных работах художника. Вслед за Мишелем Фуко, видящим в проекте идеальной тюрьмы Паноптикон оптику абсолютной монархии, Фароки понимает власть как диффузный взгляд, сопровождающий нас повсеместно и постоянно.
В трилогии «Глаз/Машина» (2001–2003) Фароки обращается к системам видеонаблюдения и мэппингу как к новому типу изображения, до этого практически не входящего в систему визуального искусства.
Фотография и компьютерная графика уже практически не имеют отличий, видимых глазу. Потеря «подлинного изображения» означает, что глаз уже не является свидетелем. В цикле «Параллели» (2012–2014) главное внимание Фароки сосредоточено на процессе, в котором реальность перестает быть исходной точкой отсчета для образа, изображения. На примере компьютерных игр он показывает, что реальность становится несовершенной, а виртуальность — мерой реальности.
Изображения, не созданные для развлечения или информации, Фароки называет «операционными». Такие изображения не столько изображают объект, сколько являются частью функции, действия, информацией. Если мы и интересуемся такими изображениями, говорит Фароки, то это потому, что «мы устали от неоперационных изображений, и устали от метаязыков. Устали от повседневной практики ремифологизации ежедневной жизни, устали от постоянно меняющейся и многоканальной программы изображений, специально сделанных, чтобы что-то значить для нас» [Farocki, 2004, с. 18].
Немецкая художница и теоретик японского происхождения Хито Штейерль (Hito Steyerl; род. 1966) видит ценность изображения не в качестве или содержании, но в его интенсивности, скорости и широте распространения. Цифровое изображение для нее не эфемерно, оно полностью включено в систему циркуляции желания и обмена, которая опирается на капиталистический экономический режим.
В эссе «В защиту бедного изображения» (In Defense of the Poor Image) Штейерль вводит понятие «бедного изображения», обозначая его как «копию в движении» [Steyerl, 2012, с. 32]. У него низкая качество, плохое разрешение. Это «призрак изображения, предварительный просмотр, эскиз, ошибочная идея, свободно распространяемое изображение, скачанное через медленное цифровое соединение, сжатое, воспроизводимое, разораванное, микшированное, а также скопированное и вставленное в другие каналы распространения» [там же]. В таком изображении доступность заменяет качество, а цифровая неопределенность — библиотеки и архивы. Оно стремится к абстракции — Штейерль видит в нем визуальную идею в своем становлении.
При этом бедное изображение — это популярное изображение; оно создается и потребляется множеством людей. Оно в полной мере выражает все противоречия современного общества: «его оппортунизм, нарциссизм, желание автономности и творчества, неспособность сосредоточиться или принять решение, его постоянную готовность к трансгрессии и одновременно к подчинению» [Steyerl, 2012, с. 41].
Бедное изображение создает анонимную глобальную сеть и общую историю. Теряя в поле визуального, оно актуализирует политическую потенцию и обретает новую ауру, связанную не понятием оригинала, а с мимолетностью копии. Циркуляция бедных изображений создает своего рода «зрительной связи», как называет их Штейерль вслед за Дзигой Вертовым. Предложенное Вертовым движением «Киноглаз» непосредственно преследовало цель «установления зрительной связи между трудящимися всего мира» [Вертов 1966, с. 84]. Бедное изображение, делает вывод Штейерль, больше не говорит о реальных существующих вещах, скорее о своих собственных условиях существования — циркуляции масс, цифровой дисперсии, сломанных и свободных временных рамках. «Оно о неповиновении и присвоении, так же как о конформизме и эксплуатации. Короче: оно о реальности» [Steyerl, 2012, с. 44].
В эссе «В свободном падении» (In Free Fall) Штейерль обращается к теме репрезентации с другой стороны, переосмысливая линейную перспективу Ренессанса в качестве объективной репрезентации мира. Изобретенная Западной цивилизацией точка схода в картине сегодня заменяется множественными и обратными перспективами, а также наслаивающимися окнами, говорит она. «Перспективы скручиваются и умножаются. Возникают новые типы визуальности», пишет Штейерль [Steyerl, 2012. С. 13]. Мы потеряли стабильный горизонт, а с ним и стабильную ориентацию во времени и пространстве, в обозначении субъекта и объекта. Сегодня мы можем говорить о ситуации перехода к одной или нескольким новым визуальным парадигмам.
Штейерль утвержает, что привычные нам двумерное изображение больше не существуют. Сегодня оно реализуются в 3D таким же образом, как кино взрывается в четырехмерное пространство, опосредованное интернетом. Она говорит: «Мы встроены в посткино, полностью трансформировавшееся, мутировавшее в целые среды и проникшее в реальность настолько, что мы сейчас можем понимать мир посредством способов мышления самих медиа и изменять его при помощи компьютерной обработки… Кино взорвалось, разлетевшись осколками и маленькими файлами повсюду — онлайн, офлайн. Старое тело кино полностью изранено, искалечено, испещрено шрамами. Но эти шрамы, с другой стороны, — те самые места, где обостряется политическое, экономическое и эстетическое напряжение» [Шенталь 2013].
Исследуя феномен цифрового изображения и изменения в визуальной культуре последних лет, американский медиа-исследователь и художник Тревор Паглен (Trevor Paglen; род. 1974) также обращается к более широкому контексту функционирования в обществе цифровых изображений. Особое внимание он уделяет вопросам машинного зрения. Он утверждает, что произошел радикальный уход изображения из зоны видимого глазом. Подавляющее количество изображений сегодня создаются машинами для машин — такие изображения Паглен называет «невидимыми» [Paglen 2016].
Именно возможность считывания машиной Паглен называет по-настоящему революционным качеством цифрового изображения. Люди могут видеть такие изображения только в определенных условиях, тогда как машина оперирует изображениями без необходимости их визуализации. Таким образом, утверждает Паглен, мы можем говорить об автоматизации видения, что несет в себе как невероятные возможности, так и колоссальные угрозы. Наша среда наполнена устройствами, не предназначенными для человеческого глаза: камеры считывают номера машин, отслеживают потоки покупателей, транспортировку товара. Даже миллиарды фотографий в социальных сетях уже часто предназначены не только для человеческого глаза. На их примере машинный интеллект обучается узнавать места, лица, предметы.
В своей серии работ под названием «Даже мертвые не в безопасности» (Even the Dead Are Not Safe) Паглен использовал алгоритмы распознавания лиц на примере фотографий умерших революционеров и философов. По мнению автора, мы быстро движемся в сторону общества, где наши фактические свободы будут регулироваться оставляемыми нами метаданными. Революционеры Паглена нарушали законы, так как считали их несправедливыми. Сегодня самой актуальной Паглен считает политическую борьбу за смысл, лежащий в каждом из изображений и используемый централизованными политическими системами в свою пользу. Фундаментальный вопрос, волнующий его — кто решает, каким образом интерпретируется сегодня любое изображение?
Все компьютерные системы видения производят математические абстракции из изображений, которые они анализируют. Для того, чтобы понять, что такое невидимый мир визуальной культуры машин, Паглен призывает нас разучиться видеть как люди и научиться видеть параллельную (пифагорейскую) вселенную, состоящую из полей, ключевых точек, границ, признаков, классификаторов и т. п.
В плоскости квантового машинного зрения, считает Паглен, мы больше не можем исходить из основ семиотической теории, где репрезентация и смысл связаны между собой. Изображения перестают репрезентировать, и уже не мы смотрим на них, а они смотрят и влияют на нас.
Превращение числа в образ предвидел в начале XX века Эль Лисицкий. В статье «Проун» он пишет «Мы берем математику как чистейший продукт человеческого творчества. Творчество, которое не воспроизводит, — репродуцирует, а создает — продуцирует. И поэтому ясно, что мы говорим не о науке счисления, но о системах, реализующих миры чисел. Оформленное число становится точным выражением состояния своего времени» [Цифровая революция 2017, с. 16]. Сегодня, в XXI веке, мы видим, как соединение в одном изображении считываемой машиной фотографии, текста, геолокации и временной привязки сделала цифровое изображение универсальным средством коммуникации как между людьми, так и между машинами. При этом в рамках человеческого восприятия множества столь сложных информационных единиц дают непредсказуемые эффекты наложения, исчезновения, помехи, а сама технология, которая сделала это возможным погрузилась «в стратегическую невидимость» [Киттлер 2009, с. 208].
Беньямин В. Краткая история фотографии. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. — 144 с.
Вайбель П. 10++ программных текстов для возможных миров / Пер. с нем. — М.: Логос, 2011. — 304 с.
Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. — М.: Искусство, 1966. — 320 с.
Вирильо П. Машина зрения. — СПб.: Наука, 2004. — 144 с.
Гройс Б. Политика поэтики: [сб. ст.]. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. — 400 с.
Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. — СПб.: Наука, 2001. — 264 с.
Киттлер Ф. Мир символического — мир машины / Логос. № 1. М., 2010, с. 5–21.
Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 года. М.: Логос, 2009. — 272 с.
Краусс Р. «Путешествие по северному морю»: искусство в эпоху постмедиальности. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. — 104 с.
Манович Л. Язык новых медия. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. — 400 с.
Петровская Е. В. Теория образа. — М.: РГГУ, 2010. — 281 с.
Флюссер В. За философию фотографии / Пер. с нем. Г. Хайдаровой. — Спб.: Изд-во С.-Петербургсого ун-та, 2008. — 146 с.
Цифровая революция–2017. Компьютер и визуальная культура дизайна в контексте эстетических, онтологических, аксиологических проблем и проектных решений. Коллективная монография на основе материалов Всероссийской научной конференции. Сост. А. Н. Лаврентьев, Н. Н. Ганцева, А. В. Сазиков. — М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2017. — 272 с.
Шенталь А. Хито Штейерль: «Мы живем среди фрагментов мертвого кино». 12.04.2013. http://archives.colta.ru/docs/19501
Ямпольский М. Б. Изображение. Курс лекций. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.
Farocki H. Phantom Images // Public, # 29. 2004. Pp. 12–22. https://public.journals.yorku.ca/index.php/public/article/view/30354/27882
Paglen T. Invisible Images (Your Pictures Are Looking at You) // The New Inquiry. Published 08.12.2016
Steyerl H. The Wretched of the Screen. Berlin: Sternberg Press, 2012.



